- 3 -
Валентин Курбатов.
"Во имя куста и поля".
…В Михайловском ни души. Морозы прижимают так, что и самый привередливый экскурсант, обычно раздражительный от многолюдства, не высовывает носа из гостиницы. Окна в пушкинском доме и в службах вымерзли до слепоты. Редкий из нас видит усадьбу об эту пору, и, когда судьба однажды сводит нас на выставках ленинградского художника В. М. Звонцова с выстуженными пейзажными офортами как будто очень знакомых мест, мы смотрим на них с жадностью и недоверием, открывая известное, как новость.
Я очень люблю пасмурный лист 1965 года «На зимней Сороти», где все печально и покойно, как-то царапающе сиротливо, как может быть только зимой в серенький стылый день, когда деревья совершенно голы – ни снега на них, ни инея и небо не оживлено птицей, а земля – человеческим силуэтом или хоть цепочкой следов. Жизнь как будто умерла до весны, но сердце все-таки полно явственным присутствием дыхания и доверчивой приязни к этому дню и одиночеству. Так выговаривается волнение художника, одушевившего этот выстуженный день.
Сначала я и глядеть боялся, как Василий Михайлович собирает альбом и карандаши, когда и сквозь стекло-то на улицу выглянуть боязно (как же рука-то его будет слушаться?), пока художник не показал мне толстый вязаный носок с крошечной дырочкой: носок на руку, в дырочку карандаш – рука в тепле, карандаш на улице, а бумага, слава богу, не зябнет. Эти простые хитрости вознаграждаются впоследствии совершенной правдой зимних листов, той высшей убедительностью, которая, увы, еще редко свойственна и хорошим зимним пейзажам русской живописи и графики, карандашным эскизам, писанным по памяти или из тепла через окно мастерской, что странным образом неизбежно обнаруживается и бессознательно ощущается зрителем. Ну живопись, понятно, с морозом не в ладах – краски каменеют, а графика-то могла бы с зимою посмелее разговаривать, но и она чаще пленяется только «конструкцией» зимы, чистотою линии, логической откровенностью пространства. Звонцова это тоже занимает, - какой график не любит звучной линии зимних снегов! – но стократ драгоценнее для него эти неуловимые градации воздуха, этот свет, сумерки, эта неисчерпаемая в оттенках скромная интонация русской природы.
Для понимания этих работ одного зрения мало, порой даже кажется, что глаз в них не главное совсем, а еще и слух важен, и ритмическое чутье, и доверчивая восприимчивость души, напряженная духовная вглядчивость, которая свойственна была в час работы самому художнику.
Василий Михайлович Звонцов.

- Я могу ходить по окрестностям Михайловского без конца, разглядывать птиц, травы, деревья, а то и просто лечь где-нибудь на поляне и слушать все вокруг. Однажды на моих глазах на тихой, сверкающей от солнца поляне с дерева оторвался лист, словно от моего взгляда, и долго летел, сияя и радуясь, а перед самой землей будто остановился вдруг, затрепетал и только потом медленно лег.
Если сидеть тихо, скоро начинают слетаться птицы и через плечо заглядывать на рисунок и живо обсуждать, часто с насмешкой.
Я глухой после контузии, но в лесу об этом забываю. Раз, тоже в Михайловском, вдруг что-то печальное и хорошее остановило меня, а ничего особенного перед глазами не было. Я поднял голову и увидел – это летят журавли. А ведь я их не слышал! Одного этого хватает на день настоящего счастья!
Когда я вижу вдали клеверное поле, я слышу его запах, хотя вижу, что ветер совсем не оттуда. Это приходит, когда душа долго раскрывается и наконец однажды как будто поймет что-то существенное в природе и природа перестает прятаться, словно догадавшись, что ее увидели.
Его диалог с природой был длителен и непрост. Судьба упрямо сопротивлялась призванию человека. Она делала все, чтобы Звонцов не был художником, и если он все-таки стал им, то только противопоставив ей такое же упрямство. Тут коса на камень нашла.
Уроженец вологодской деревни, он с детства, с простых уроков отца, приучился к рисованию и в общем в положенный срок стал студентом академии, которая еще была достаточна высока традицией и не вовсе выветрившемся авторитетом XIX века. Но вот тут-то дорога и искривилась. В год поступления он и занятий начать не успел – пришла пора идти в армию, а там началась Великая Отечественная война, и закончил ее Звонцов подполковником, дважды раненным и контуженным, с пятью орденами и шестью медалями. Можно представить, как мешали ему прерывать такую хорошую военную карьеру, сколько непонимания встретил он в поколении, еще полном войной, отвагой, победой, оставляя службу для рисования и неизвестности. Каждый, кто знает организм армии, поймет при этом, что дело и не только в непонимании и осуждении.
Он воротился в академию. Однако, еще не закончив ее, в 1951 году был избран секретарем Василеостровского райкома партии Ленинграда. Я не случайно выставляю дату, она тут существенна и много говорит – партийная работа об эту пору была не проще войны, а Звонцов еще выкраивал время для диплома. Потом уже было полегче, хотя собственно прямой желанной работе художника он смог посвятить себя только с 1974 года, когда оставил последнюю службу – главного редактора издательства «Аврора».
К этому времени он умел уже очень много. И существеннейшей, пожалуй, школой были приезды в Михайловское, в которое он с 1957 года приезжал постоянно. Робкий ученик этих совершенных пространств, он учился здесь свободе. А свобода дается, как давно уже известно из устойчивого парадокса, предварительным смирением, послушанием. Он перерисовал все травы и все деревья с обстоятельностью ботаника, классификатора, ученого. С гербарийной подробностью писал он лютики, ромашки, сурепку, репьи, лопухи, дивясь их красоте и совершенству, вглядывался в ели, березы, ивы, постигая их анатомию и психологию, открывая, что дерево не нарисуешь, пока не почувствуешь, как оно кроной пронзает при росте воздух, а раз почувствовав, уже будешь знать, что береза, ива, осина, всякое дерево – неисчерпаемы, даже если рисовать в течение жизни только одно из них.
Василий Михайлович Звонцов.
Под ивами. Михайловское.
1987.
Китайская тушь. 37 х 27 см.

Это почти неизбежно привело его к технологии старой китайской графики, и новый материал и новая эта технология диктовали ему поначалу и китайскую фразеологию, столь отчетливую в «Тростниках», пока он не научил тушь русской пленительной простоте, чуть как будто даже косноязычной, но очень родной, как в «Белом шиповнике» или «Осенних травах», в красоте позабывших о сорности.
Василий Михайлович Звонцов.
Тростники на Вуоксе.
1993.
Китайская тушь. 27,5 х 36,5 см.

С тем же терпением и подробностью, с какими он вглядывался в реальность, перебирал Звонцов и выразительные средства, примеряя то одно, то другое, ища единственного в единственной ситуации, уча подчинению лавис и резерваж, сухую иглу и акватинту. Графика чудесно щедра средствами и благодарит за послушное ученичество безупречной выразительностью. Я видел у него таблицу проб угля едва ли не всех михайловских деревьев и кустов. В печке флигелька, где он обычно работает, художник жег веточки ореха и акации, волчьих ягод и дуба, черемуха и осины, клена и ольхи и радовался чистоте рябины и шелковой мягкости липы. Так он учился слушаться материала, и уголь давал ему приглушенные глубокие созвучия («Яблони»), свинцовый штифт – мерцающую серебряную легкость («Ветка багульника»), лавис – акварельную мягкость («Пуховая зима»), а офорт – упругую ритмическую поступь резкой линии (как в «Желязовой Воле» - мужественной и немногословной, по-весеннему молодой и торжественной, как полонез) или эпическую возвышенность мощного собеседования пространств («Осенняя Сороть», «Путники», «Псковский пейзаж»).
Василий Михайлович Звонцов.
Старые яблони.
1979.
Офорт. 14 х 17,5 см.

Василий Михайлович Звонцов.
Пуховая зима.
Лавис, сухая игла.

Василий Михайлович Звонцов.
Осенняя Сороть.
1968.
Сухая игла. 25 х 30,5 см.

Можно и описать каждую работу, но это было бы бессильно и вяло, как пересказ Фета. Фет часто казался мне наиболее родственным интонации художника, и Пушкин это простит. И странно сказать, не пейзажные стихи Фета, а его записи мимолетностей, ускользающих движений души.
|
Свет небес высоких |
В сущности, лучшими-то описаниями как раз и были бы стихи Пушкина и Фета – так внутренне сюжетен и завершен Звонцов в своих листах, так явственно ритмически закончен. Интонация его так жива и так полно всегда выговорена, что его можно назвать и новеллистом, хотя как будто какая, например, новелла в двух чуть заметных птицах на голых ветвях молодых озябших берез в холодном зимнем поле («Свиристели»)? Однако, как и во всяком листе, Звонцов сохраняет здесь всю длительность «проживания» вещи – от замысла до подписи. Она словно рождается на наших глазах, в нашем сердце, и, несколько раз обняв ее взглядом и «исчерпав», мы чувствуем удовлетворение, как от хорошо сделанного дела, освежившего душу.
А подпись у него двойная – легкая, летящая фамилия в один росчерк, без единого лишнего завитка, отлично говорящая зрителю о последовательной простоте мировидения и художественного языка. И… муха из первых букв имени и фамилии. Муха, очевидно, была сначала только замещением иероглифа в «китайских» листах, а потом прижилась, но пока он все-таки подписывает так только тушь и черную акварель – наиболее «китайские» техники, где при поэзии пробуждения нужна отвага и расчет исполнения, ибо поправки, увы, невозможны – все сразу и набело, пока лист влажен.
Он рисует всегда, везде, но подлинной его землей стало именно Михайловское, которое он знает так полно, что, вероятно, по памяти может нарисовать каждое дерево усадьбы и каждую птицу.
Василий Михайлович Звонцов.
В Михайловском.
1983.
Уголь. 43 х 29 см.

И, когда он оформляет книгу С. С. Гейченко «У Лукоморья», рисунки расселяются в тексте как живые михайловские обитатели – эти аисты, свечи, одинокие путники, лавы, кувшинки, вороны, грибы, колодцы и дальние кибитки. Они не иллюстрируют текст, а становятся корнями, ветвями, цветами и небом книги, как полны воздухом Михайловского и его миниатюры – чаще всего резцовые черно-белые или чуть тронутые акварелью офорты три на четыре сантиметра, а порою и меньше, которые он так любит присылать друзьям на Новый год, чтобы оживить в памяти дни встреч, чаще всего именно здешних, усадебных, - самых дорогих и счастливо долгих.
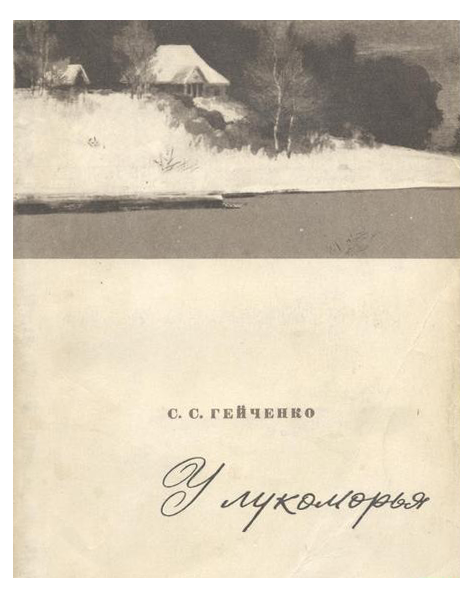
Мостик, скамья, ветка, часовня – что-нибудь одно глядит с листа в летний, осенний, зимний день, и на этих наперсточных пространствах, все равно как в больших станковых работах, все очень чисто интонацией – весело, задумчиво, грустно, покойно.
Звонцов неисчерпаемо богат оттенками обыкновенного, повседневного, и даже в таком, положим, листе, как «Мертвые деревья», жалоба природы утешена светом композиции, и боль тут не ранящая, а сострадательная, полная сыновней благодарности некогда сильной и молодой природе. Вообще мир Звонцова чрезвычайно прост и так обыкновенен, что ты вот-вот готов перед этими доверчиво бедными листами сказать «Ну и что?», но за мгновение до этого восклицания поймешь, что в этой простоте скрыта высокая школа и радость Адама, называющего все на земле впервые по именам и узнавшего за беспокойную жизнь высокую правоту Гете, что мир потому и сложен и долговечен, что очень прост.
Он учился этой простоте у своей натуры – русской природы, до него научившей своим высоким и обыкновенным тайнам Пушкина, Глинку, Саврасова. Это школа пожизненная и неутоляющая. Лучших учеников она не выпускает до последнего часа, и в благодарность ей они оставляют достойное ее уроков искусство.
ВАЛЕНТИН ЯКОВЛЕВИЧ КУРБАТОВ (1939)
ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ЗВОНЦОВ (1917-1994)
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:







